23:04 Неуловимый гений. О Гоголе без догм и стереотипов | |
Неуловимый гений О Гоголе без догм и стереотипов Игорь Сюндюков 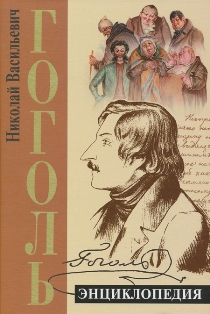 Удивительно: только представишь себе (прочитав какую-то, пусть малую, часть безбрежной, неизмеримой литературы, посвященной нашему герою) образ одного из величайших украинцев, видимо, самого знаменитого в мире из всех наших земляков (правда, далеко не на всех континентах знают, откуда родом «великий русский писатель», творец уникального художественного мира), — только нарисуешь в своем воображении портрет Николая Васильевича Гоголя, как этот портрет начинает таинственно светиться, мерцать, мягко и неумолимо отдаляться от зрителя и, наконец, исчезает... Таинственный и неуловимый Гоголь! Именно так — еще при жизни! — воспринимали великого творца «Миргорода», «Ревизора» и «Мертвых душ» люди, близко его знавшие. (При этом надо помнить, что речь идет о личности очень «закрытой», вопреки внешней откровенности многих писем, никого в свой духовный мир не впускавшей.) Нам же, украинцам, надлежит, хотя бы в меру сил, пытаться разгадать «тайну Гоголя», понять, что хочет донести до нас этот писатель ХІХ века — высшее, наряду с Шевченко, вершинное достижение нашего национального художественного гения. Но для этого необходимо раз и навсегда отрешиться от примитивных, порядком уже надоевших догм, мифов и стереотипов, касающихся Гоголя, попросту раз и навсегда сдать их в архив. Не был великий украинец фанатичным сторонником имперского официального православия «николаевского» разлива (а тем более в его «уваровской» редакции: православие, самодержавие, народность — вот почему попытки адептов этой триады, становящейся сейчас в России официальной идеологией, использовать в политических целях творчество Гоголя есть цинизм!), не был он политическим реакционером, мракобесом, врагом просвещения, защитником крепостничества и т.д... Он был глубочайше верующим христианином (в широком, а не кастово-конфессиональном смысле слова), которому открылась вся низость людских душ. И — при всех своих противоречиях — всегда нежно любил Украину. Приведем лишь два суждения о Гоголе философов, долго, глубоко и страстно писавших и думавших о нем. Вот Константин Мочульский, своеобразный религиозный мыслитель и литературный критик русского зарубежья (20—30-е годы прошлого столетия): «Гоголь был не только великим художником: он был и учителем нравственности, и христианским подвижником, и мистиком... В душе Гоголя первичны переживание космического ужаса и стихийный страх смерти; и на этой языческой основе христианство воспринимается им как религия греха и возмездия». Мочульский подчеркивал «веру Гоголя в особое, преимущественное попечение о нем Промысла Божия». А трагедию великого художника он видел прежде всего в том, что «читатели любят простые и ясные ярлыки: звание юмориста осталось приклеенным к писателю на всю жизнь. И этим отчасти объясняется провал его «Переписки с друзьями», и вообще неудача его «душевного дела». Когда Гоголь перестал смешить и заговорил о Боге, никто не поверил, что комический писатель может быть Учителем». По мнению Мочульского, «в основе повестей, помещенных в «Миргороде» и «Арабесках», ощущение безнадежности и обреченности расширяется и углубляется. Гоголь видит мир во власти темных сил и с беспощадной наблюдательностью следит за борьбой человека с дьяволом. За исключением «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», все повести кончаются гибелью героев: умирают Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна в «Старосветских помещиках», гибнет Тарас с двумя своими сыновьями в «Тарасе Бульбе», сходит с ума чиновник Поприщин в «Записках сумасшедшего». Мочульский делает вывод: «Из страшного мира, в котором властвует зло и царит смерть, уйти некуда. Даже если удалиться от суеты жизни и тревоги страстей и похоронить себя заживо в каком-нибудь медвежьем углу, в полной тишине и уединении, и тут «злой дух» настигнет, и одним своим дыханием разрушит хрупкий игрушечный рай». И еще одной важной темы касается критик: «До самой смерти Гоголь не знал любви, этого, по его словам, «первого блага в свете». Это — факт громадной важности, объясняющий многие особенности характера и творчества писателя. Но безвкусны и произвольны домыслы некоторых исследователей о сексуальной жизни Гоголя. Догадываться о том, каким пороком страдал писатель, применять к нему метод Фрейда — занятие бесполезное. Достаточно показать, что мысли Гоголя о демонической природе красоты и гибельности любви основаны на его личном психологическом опыте: он испытывал ужас перед любовью, предчувствуя ее страшную, разрушительную силу над своей душой; натура его была так чувственна, что это пламя превратило бы его в прах в одно мгновение» (Константин Мочульский, «Духовный путь Гоголя», Париж, 1933 г.). А вот мысли о Гоголе знаменитого современника Мочульского, нашего земляка, киевлянина Николая Александровича Бердяева (из статьи «Духи русской революции», 1918 г.): «Гоголь — единственный наш писатель, в котором было чувство магизма, он художественно передает действие темных, злых магических сил. У Гоголя было совершенно исключительное по силе чувство зла. И он не находил тех утешений, которые находил Достоевский в образе Зосимы и в прикосновении к матери-земле. Нет у него всех этих клейких листочков, нет нигде спасения от окружавших его демонических рож. Гоголю не было дано увидеть образов добра и художественно передать их. В этом была его трагедия. И он сам испугался своего исключительного видения образов зла и уродства». Бердяев убежден, что «Гоголь как художник предвосхитил новейшие аналитические течения в искусстве, обнаружившиеся в связи с кризисом искусства. Он предваряет искусство Андрея Белого и Пикассо. В нем были уже те восприятия действительности, которые привели к кубизму. В художестве его есть уже кубистическое расчленение живого бытия. Гоголь видел уже тех чудовищ, которые позже художественно увидел Пикассо. Но Гоголь ввел в обман, так как прикрыл смехом свое демоническое созерцание». И далее: «Гоголь — инфернальный художник (адский. — И.С.). Гоголевские образы — клочья людей, а не люди, гримасы людей (возможно, не стоит так уж обобщать: а Тарас Бульба? А сын его Остап? — И.С.). Не его вина, что в России (! — И.С.) было так мало образов человеческих, подлинных личностей, так много лжи и лжеобразов, подмен, так много безобрбзности и безубразности. Гоголь нестерпимо страдал от этого. Ему был дан дар прозрения духов пошлости, и это давило его». * * * А теперь — о весьма «неожиданном» Гоголе. Речь идет о том периоде его жизни, когда писатель, покинув имперское «Отечество», жил в Париже (1837 год) и в Риме (1838 год). Интересен круг общения Николая Васильевича, интенсивно работавшего в ту пору над «Мертвыми душами». Вот поэт Василий Андреевич Жуковский, из письма Гоголя к нему от 6 (18) апреля 1837 года: «Меня страшит мое будущее. Здоровье мое, кажется, с каждым годом становится плоше и плоше. Я был недавно очень болен, теперь мне сделалось немного лучше. Если и Италия мне ничего не поможет, то я не знаю, что тогда уже делать. Я послал в Петербург за последними моими деньгами, и больше ни копейки, впереди не вижу совершенно никаких средств добыть их. Заниматься каким-нибудь журнальным мелочным вздором не могу, хотя бы умирал с голода. Я должен продолжать мною начатый большой труд («Мертвые души». — И.С.), который писать с меня взял слово Пушкин, которого мысль есть его создание и который обратился для меня с этих пор в священное завещание. Я дорожу теперь минутами моей жизни, потому что не думаю, чтобы она была долговечна, а между тем... я начинаю верить тому, что прежде считал басней, что писатели в наше время могут умирать с голоду. Но чуть ли это не правда. Будь я живописец, хоть бы даже плохой, я был бы обеспечен: здесь в Риме около 15 человек наших художников, которые недавно высланы из Академии, из которых иные рисуют хуже моего, они все получают по три тысячи в год. Поди я в актеры — я был бы обеспечен, актеры получают по 10 000 серебром и больше, а вы сами знаете, что я не был бы плохой актер. Но я писатель — и потому должен умереть с голоду». А вот (и это еще интереснее!) польские политические эмигранты, участники знаменитого восстания 1830—1831 годов, объявленные правительством Николая I вне закона и живущие в Париже, либо в Бельгии, Германии или Италии. Самый знаменитый из них, безусловно, Адам Мицкевич. «Монархист», «православный имперец» Гоголь неоднократно встречался с «политическим преступником» Мицкевичем (а также с людьми из его круга: Иеронимом Кайсевичем, польским священником, поэтом, кавалерийским офицером, а также Петром Семененко, украинцем по происхождению, тоже католическим священником, в прошлом — артиллерийским офицером, оба — активные участники Польского восстания) и в Париже в 1837 году, и спустя год в Риме, и в 1843 году в Карлсруэ, Германия (Гоголь специально ездил туда на встречу с польским поэтом!). О чем Гоголь говорил с этими людьми? Вот свидетельство Кайсевича (письмо из Рима, 7 апреля 1838 года): «Гоголь недавно посетил нас, на следующий день мы (с Семененко. — И.С.) его. Мы беседовали с ним на славянские темы. Что за чистая душа! Можно про него сказать с Господом: «Недалек ты от Царства Божия!» Много говорили об общей литературе. Мы обстоятельнее высказались о том, о чем в той прогулке на виллу говорили друг с другом только намеками. Удивительное он (Гоголь. — И.С.) нам сделал признание. В простоте сердца он признался, что польский язык ему кажется гораздо звучнее, чем русский. «Долго, — сказал он, — я в этом удостоверялся, старался быть совершенно беспристрастным — и в конце концов пришел к такому выводу. — И прибавил: — Знаю, что повсюду смотрят иначе, особенно в России, тем не менее мне представляется правдою то, что я говорю». О Мицкевиче отзывался с величайшим уважением». Еще о встречах с Мицкевичем. Бывший вместе с Гоголем в Париже в конце 1836 — начале 1837 года Александр Данилевский, одноклассник писателя по Нежинской гимназии, впоследствии вспоминал: «В последнее время Гоголя только и удерживала в Париже разве возможность видеться часто с Мицкевичем, который жил тогда в Париже, еще не будучи профессором в College de France, и с другим польским поэтом, Богданом Залесским. Так как Гоголь достаточно не знал польского языка, то разговор обыкновенно происходил на русском или чаще — на малороссийском языке (! — И.С.). Все остальное ему прискучило, и он впал в жестокую хандру». А уже упоминавшийся Петр Семененко вспоминал об общении с Гоголем так (письмо из Рима от 25 мая 1838 года): «Гоголь — как нельзя лучше. Мы с Кайсевичем столковались с ним далеко и широко. На это мы уже намекнули парою слов в последнем письме. Он подробнейшим образом рассказывал нам о перемене, которая произошла в мыслях русских за последние два года. Находящиеся здесь офицеры лейб-гвардии, два года назад русские энтузиасты, теперь обвиняют царя в невероятнейших вещах, и это те, которые осыпаны почестями, привилегиями, благодеяниями. И удивительна та откровенность, которая господствует между русскими: демагоги в Париже осторожнее, чем эти недовольные. Занимается Гоголь русской историей. В этой области у него очень светлые мысли. Он хорошо видит, что нет цемента, который бы связывал эту безобразную громадину (! — И.С.). Сверху давит сила, но нет внутри духа. И каждый раз восклицает: «У вас, у вас что за жизнь! После потери стольких сил! Удар, который должен был вас уничтожить (поражение восстания 1830 года. — И.С.), вознес вас и оживил. Что за люди, что за литература, что за надежды! Это вещь нигде не слыханная». Несколько же ранее, 12 мая 1838 года, Кайсевич и Семененко сообщили из Рима Б. Янскому: «С Божьего соизволения, мы с Гоголем очень хорошо столковались. Удивительно: он признал, что Россия — это розга, которою отец наказывает ребенка, чтобы потом ее сломать. И много-много других очень утешительных речей. Благодарите и молитесь; и княгиня Волконская начинает видеть иначе». Тут, видимо, необходимо сделать разъяснение. Речь идет, очевидно, о надеждах на возможный переход Гоголя в католичество, которые питали Кайсевич и Семененко. Этого не произошло; но вот как объясняет Гоголь свои взгляды на эту проблему в письме к матери (Рим, 22 декабря 1837 года), человеку, с которым он был наиболее откровенен: «Вы правы, что спорили с другими, что я не переменю обрядов своей религии. Это совершенно справедливо. Потому что как религия наша, так и католическая совершенно одно и то же, и потому совершенно нет надобности переменять одну на другую. Та и другая истинна. Та и другая признают одного и Того же Спасителя нашего, одну и Ту же Божественную Мудрость, посетившую некогда нашу землю, претерпевшую последнее унижение на ней, для того чтобы возвысить выше нашу душу и устремить ее к небу». Как это далеко от православного фанатизма (и фундаментализма), который так часто и так безосновательно приписывают Гоголю... И, наконец, любопытнейший фрагмент (на украинском языке, с сохранением орфографии и стилистических особенностей оригинала) из письма Гоголя к польскому поэту Богдану Залесскому (вторая половина февраля 1837 г., Париж): «Дуже-дуже було жалко, що не застав пана земляка дома. Чував, що на пана щось напало — не то сояшныца (боль в животе. — И.С.), не то завийныца (тоже боль в животе. — И.С.) (хай ий прыснытся лысый дидько), та тепер, спасибо Богови, кажут начей-то пан зовсим здоров. Дай же Боже, щоб на довго, на славу усий козацкий земли давав бы чернецького хлиба усякий болизни и злыдням. Та й нас бы не забував, пысульки в Рым слав. Добре б було, колы б и сам туды колы-небудь прымандрував. Дуже, дуже блызькый земляк, а по серцю ще блыжчый, чим по земли». * * * Вот таким был реальный, немифологизированный Гоголь. Величайший классик русской литературы, оказавший сильное влияние на духовное становление многих украинских патриотов и националистов. Мудрец и сатирик, гениальный провидец и предельно наивный утопист, мечтавший о всеобщем примирении, надменный христианский проповедник священных забытых истин — и великий человеколюбец... Парадоксы? Отнюдь нет. Просто это — Гоголь! | |
|
| |
| Всего комментариев: 0 | |
